Маски симптома
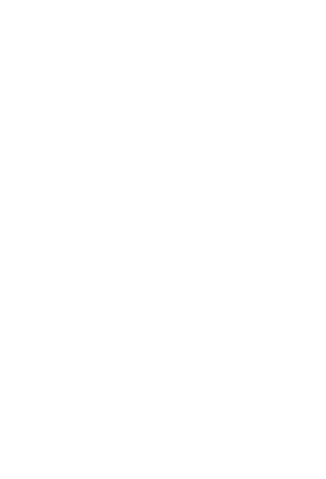
Пятнадцать лет назад я сильно увлекался танго и не понаслышке знаком с феноменом, который был описан во втором десятилетии прошлого века. Тогда аргентинский танец захватил парижские салоны, и в местных газетах появились публикации о “тангомании”. В нынешнем веке сотни людей в разных странах мира несколько вечеров в неделю “пропадают” на милонгах (вечерах танго). А в прошлом году я защитил диссертацию по социокультурной антропологии, в которой я описал жизнь пражского танго сообщества и ещё раз убедился в существовании тангомании. И сейчас мне стало интересно написать об этом симптоме современной цивилизации с точки зрения психоанализа.
Несколько раз в год в Праге проходят крупные танго марафоны, на которые съезжаются тангерас и тангерос со всего мира. Во время строгого локдауна, введенного в 2021-м году из-за пандемии, пражане тайком собирались и танцевали “запретное” танго. Годом позже они организовывали вечера танго, на которых собирали деньги в поддержку Украины. Однако наиболее отчетливо тангомания проявляет себя на совсем других мероприятиях. Речь идёт о небольших еженедельных милонгах, проводимых в укромных ресторанчиках и полутёмных танцевальных залах. Иногда на них царит атмосфера откровенной скуки. Несколько пар с задумчиво-печальными лицами движутся по кругу под старомодную ностальгическую мелодию. Рядом с танцополом за столиками с напитками сидят и вздыхают дамы, которых не пригласили на танец. Пражане, которые регулярно ходят на такие милонги, затрудняются объяснить, зачем они это делают.
Если рассматривать тангоманию как симптом, то скука – одна из масок этого симптома. Как это понимать? Обратимся к “Маскам симптома” – именно такую тему выбрал Жак Лакан для XVIII занятия своего V семинара по психоанализу. Чтобы желание было признано и удовлетворенно, его нужно сообщить в форме требования. Довольный и удовлетворенный младенец видит материнское лицо и смеётся. Смех – это связь с чем-то субъективным в маме (или в её заместителе), что лежит “по ту сторону любого требования”. Противоположностью смеха является “каменное лицо” младенца, получившего отказ. “Другими словами, маска всегда образуется в состоянии неудолетворённости, посредством требования, на которое был получен отказ”, – резюмирует Лакан.
Маска симптома – это неудовлетворённое требование в признании желания. Так пациентка Фрейда Елизавета фон Р. испытывала нежные чувства к другу детства. При этом она ухаживала за больным, требующим её внимания отцом и не могла дать этим чувствам ход. Конфликт нашёл своё выражение в хронической боли, которую девушка испытывала в правом бедре. Боль в бедре сообщает о вытесненном желании и даже удовлетворяет его, но как бы наизнанку. В этом смысле правое бедро фон Р. – маска её симптома. Отметим, что данная пациентка страдала истерической конверсией – у неё болело не одно, а оба бедра, и каждое по своей причине.
Невротический симптом всегда сложнее своей маски (обычно их у него несколько). Целиком расшифровать зашифрованное в симптоме желание не представляется возможным. Болезненное удовольствие, связанное с переживанием нехватки, не позволяет этого сделать. То же можно сказать и о коллективном симптоме. Некоторые участники пражского танго сообщества зевают, ругаются на отсутствие хороших партнёров и на музыку, которую ставит диджей. При этом их можно встретить практически на каждой милонге. О мотивах каждого из них можно написать по отдельной диссертации, но это не поможет им самим понять, что стоит за их симптомом. Чтобы желание могло быть частично расшифровано, симптом должен не только проявится одной из своих масок, но “заговорить”. Последнее возможно в кабинете психоаналитика, задача которого состоит в том, чтобы услышать скрывающийся за различными масками симптома призыв о признании.
Несколько раз в год в Праге проходят крупные танго марафоны, на которые съезжаются тангерас и тангерос со всего мира. Во время строгого локдауна, введенного в 2021-м году из-за пандемии, пражане тайком собирались и танцевали “запретное” танго. Годом позже они организовывали вечера танго, на которых собирали деньги в поддержку Украины. Однако наиболее отчетливо тангомания проявляет себя на совсем других мероприятиях. Речь идёт о небольших еженедельных милонгах, проводимых в укромных ресторанчиках и полутёмных танцевальных залах. Иногда на них царит атмосфера откровенной скуки. Несколько пар с задумчиво-печальными лицами движутся по кругу под старомодную ностальгическую мелодию. Рядом с танцополом за столиками с напитками сидят и вздыхают дамы, которых не пригласили на танец. Пражане, которые регулярно ходят на такие милонги, затрудняются объяснить, зачем они это делают.
Если рассматривать тангоманию как симптом, то скука – одна из масок этого симптома. Как это понимать? Обратимся к “Маскам симптома” – именно такую тему выбрал Жак Лакан для XVIII занятия своего V семинара по психоанализу. Чтобы желание было признано и удовлетворенно, его нужно сообщить в форме требования. Довольный и удовлетворенный младенец видит материнское лицо и смеётся. Смех – это связь с чем-то субъективным в маме (или в её заместителе), что лежит “по ту сторону любого требования”. Противоположностью смеха является “каменное лицо” младенца, получившего отказ. “Другими словами, маска всегда образуется в состоянии неудолетворённости, посредством требования, на которое был получен отказ”, – резюмирует Лакан.
Маска симптома – это неудовлетворённое требование в признании желания. Так пациентка Фрейда Елизавета фон Р. испытывала нежные чувства к другу детства. При этом она ухаживала за больным, требующим её внимания отцом и не могла дать этим чувствам ход. Конфликт нашёл своё выражение в хронической боли, которую девушка испытывала в правом бедре. Боль в бедре сообщает о вытесненном желании и даже удовлетворяет его, но как бы наизнанку. В этом смысле правое бедро фон Р. – маска её симптома. Отметим, что данная пациентка страдала истерической конверсией – у неё болело не одно, а оба бедра, и каждое по своей причине.
Невротический симптом всегда сложнее своей маски (обычно их у него несколько). Целиком расшифровать зашифрованное в симптоме желание не представляется возможным. Болезненное удовольствие, связанное с переживанием нехватки, не позволяет этого сделать. То же можно сказать и о коллективном симптоме. Некоторые участники пражского танго сообщества зевают, ругаются на отсутствие хороших партнёров и на музыку, которую ставит диджей. При этом их можно встретить практически на каждой милонге. О мотивах каждого из них можно написать по отдельной диссертации, но это не поможет им самим понять, что стоит за их симптомом. Чтобы желание могло быть частично расшифровано, симптом должен не только проявится одной из своих масок, но “заговорить”. Последнее возможно в кабинете психоаналитика, задача которого состоит в том, чтобы услышать скрывающийся за различными масками симптома призыв о признании.
